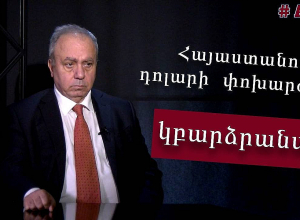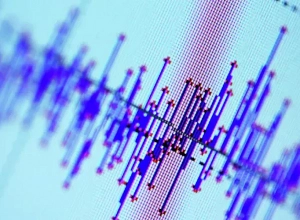Cамое сложное – это “Oчень просто”: Интервью с Владимиром Федосеевым
Поддержи А1+!Беседа с известным дирижером Владимиром Федосеевым проведена 17-го ноября 2022 г. после его выступления с Армянским национальным филармоническим оркестром (солист – М. Плетнев). Концерт прошел при поддержке Primavera Foundation.
- Доброе утро. У меня несколько вопросов, некоторые из которых Вам наверняка уже задавали, и не раз.
- За жизнь много вопросов было... Не столько ответов, сколько вопросов.
- ...и возможно, что ответы меняются в течение жизни...
- Конечно.
- Мой первый вопрос: Вы начинали карьеру как баянист и дирижер оркестра русских народных инструментов...
- Я счастлив, что я так начинал. Русское народное искусство мне дало все. Сама природа России – там, где я родился – она мне дала эти подарки и познавание фольклора.
- Вы родились на севере, в Санкт-Петербурге, верно?
- Да, в Санкт-Петербурге. И блокаду там провел, еле выжил – наверно, бог меня хранил.
- Каково это – переходить от исполнения народной музыки к исполнению классической? Надо ли было переучиваться, и что Вам из прошлого опыта пригодилось?
- По-моему, ничего [не нужно], в народной музыке все заложено. Тот же Бородин писал симфонии с народными оттенками, Чайковский тоже обращался. Каждый великий русский композитор обращался к народному искусству, жил этим и создавал, конечно, более крупные сочинения, но там звучала тема народного искусства. А без этого нельзя. Бетховен тоже был великий, но он пользовался народным искусством. Дворжак – пожалуйста. А русские особенно. Скажите, Рахманинов смог бы написать столько симфоний без народного искусства? Нет. Он жил этим, его кровь была насыщена этим, и кровь давала ему импульсы.
- А как насчет Скрябина?
- Ну, Скрябин немножко более современный, но все равно, через народное искусство можно добраться до всего.
- Было ли какое-либо произведение классической музыки, которое подвигло Вас на то, чтобы перейти в классику, или все получилось само собой?
- Само собой. Весь Чайковский, его балетная музыка, его симфонии – и Третья, и Четвертая, конечно – “Во поле березонька стояла”. Где она стояла-то? Я еще молодым мальчиком задавался этим воросом. Я изучал это, конечно – что там за слова? Почему она стояла? Никто не может эту березу сорвати, закопати – почему? Потом я получал отгадки.
- А почему? Есть какие-то отгадки?
- Ну так это народное искусство. Нельзя природу закопать, она должна расти, плодородить, она должна проявляться людям.
- То есть, эта береза символизирует все народное искусство?
- В понятии русского музыканта это какая-то красивая женщина, она нежная вся, ее нельзя трогать, ее нужно поливать, чтобы она пила воду...
- И Вы, разумеется, занимались этим всю жизнь.
- Это долгий срок. Потом, у меня не было другого инструмента [кроме баяна]. Я жил в тот период, когда был голод. Я голодал, я еле жил. Моя семья не выходила из дома, потому что было опасно. У меня сестра была врач, и мой папа запретил ей ходить по вызову, потому что исчезали врачи – был настоящий голод. И мы сидели дома закрывшись, пока в 43-м году папин завод не отправили в другой город – ну вот, мы там ожили. А так – мы все это прожили вместе со страной, вместе с Ленинградом, под бомбежками, когда все било, грохотало. Мы пытались удержаться, прожить. И когда я взял отцовский баян и услышал звуки, я хотел через звуки протестовать о том, что я живу, я хочу жить. [Отец] мне дал инструмент, которым я стал жить. Я пошел работать в пионерские лагеря. Я играл ребяткам на зарядке – все это было у меня. А радио? Шостакович по радио звучал в тот голодный период, я слушал Шостаковича – Восьмую симфонию, Седьмую – а как добраться до этого? Ну, добирайся сам. У меня родители не музыканты. Но как-то, с помощью педагогов, с помощью русских и не только русских людей (все были близкие, братья, все друг друга любили) я опять переехал в Ленинград, где стал профессионально учиться. Моими первыми педагогами были музыканты, которые мне дали ноты – а я так, по слуху все играл-то. И все, я понял, что надо нотами заниматься, что я должен быть профессионалом. У меня было желание. Я бегал за духовым оркестром после войны – он по улице шел и играл марши. Я выбегал и сзади начинал руками махать. Такая история – сложная она. И постепенно я [поступил] в Гнесинский институт. Я поехал в Москву – надо было поменять Ленинград [на Москву]. Ну, что было делать? Я бросил и родителей, и дом, и поехал в Москву, где я встретился с педагогами и по баяну, и по дирижированию. Меня тянуло к управлению оркестром. Вот я на улице “дирижировал” за духовым оркестром – как хорошо мне было! С тех пор я стал понимать, что мне нужно образование. Вот я и пошел в Гнесинский институт на 5 лет. Потом мне этого оказалось недостаточно и я поступил в аспирануру консерватории, к замечательным педагогам. Мне очень помог Мравинский, который увидел меня где-то когда-то и предложил играть с его оркестром. Это великий оркестр был в то время.
- То есть, Вы у него не учились.
- Нет, не учился. Он просто доверил мне, оттуда все и пошло. Я учился у Лео Гинзбурга, это педагог, который получил школу в Германии. А немцы были хорошие учителя, особенно по дирижированию. Так что у меня школа пошла от германских учителей. Ну, а потом, поскольку я, все-таки, русский, народное искуссво мне позволило коснуться и Чайковского, и Бородина, и Римского-Корсакова, и русской песни – все ведь заложено в русской музыке, так же как и в армянской все заложено. Вы поете “Ов сирун, сирун”, и где бы я это ни пел, вы все улыбаетесь – значит, это сердечное.
- Владимир Иванович, я пересмотрел некоторые Ваши видео: в кое-каких из них Вы дирижируете с палочкой, а в других – без...
- Это очень интересный вопрос, мне его много задают. Я однажды согласился дирижировать Реквиемом Верди – по-моему, в Италии. А в хоре было две тысячи человек. Это было на стадионе. Я когда стал палочкой дирижировать, меня перестали видеть, и мне сказали: “Маэстро, Вы не могли бы руками дирижировать? Потому что мы больше понимаем руки.” Потому что они растут из души. Вот с тех пор я действительно понял, что рук достаточно для понимания через расстояние. Потому что я ведь обращаюсь к живым людям, к сердцам, к живым душам. А палочка – она, конечно, помогает мне считать, но в этом произведении не надо было счета – они знали эту музыку, а я тоже познавал. С тех пор я и бросил палочку. Они у меня лежат в портфеле – две, но я никогда их не трогаю.
- Вы много дирижировали оперой. Вы сделали в этой области многое, и особенно для русской оперы, потому что русская опера относительно редко звучит за рубежом. В чем причина – языковой барьер или какие-то другие препятствия?
- Знаете, в русской опере на Западе много импровизации. Они нарушают многие вещи. Ну, допустим, я дирижировал “Ивана Сусанина” – “Жизнь за царя”. Там Сусанин пил водку с детьми. Я говорю: “Такого не может быть. Они пили не водку, а брагу”. Водка – это же алкоголь. Поэтому мне приходилось бороться со многими режиссерами. Ну, я где-то побеждал. Не надо делать из этого цирка, это неправда. Вот я и искал правду в русской опере. Так проходила моя борьба. Многие, в основном, соглашались со мной, потому что я доказывал. Это ведь и в самой музыке уже есть. Пушкин сказал, я повторяю: “Одной любви музыка уступает...” То есть, любви она может и уступить. “...но и любовь – мелодия”.
- По-Вашему, дирижер – это авторитарная фигура, или это что-то другое? У Вас есть какие-то секреты [работы с оркестром]?
- Смотря кто. Есть дирижеры-диктаторы. Я не диктатор. [Некоторых] боятся. Ну, смотря в какой обстановке. В советское время боялись дирижера, потому что он мог наказать и выгнать совсем. Но я никогда не являюсь диктатором. У меня все от любви, я начинаю обращать внимание на музыкантов и говорить им, что все замечательно, только немножко надо исправить. А другие говорят: “Это плохо! Это не годится!” И музыкант теряется, теряет самого себя. Я с любовью отношусь к музыкнтам, потому что каждый музыкант – это талант. Много его или мало – попробуй, добейся от него самого большого таланта.
- Максимума того, на что он способен.
- Максимума, да. Я начинаю говорить: “Вы играете замечательно”. Он плохо играет, а я ему: “Замечательно! Вот только здесь нужно одну нотку сделать так”. Он мне: “Что, вообще замечательно?”, а я говорю: “Да”. И вот этим я их успокаиваю, и они становятся на мою сторону.
- Это очень хорошая тактика... Так как Вы уже упомянули Советский Союз, скажите, пожалуйста, есть ли разница – быть дирижером в Советском Союзе или быть им в России, или вообще в современном мире?
- Разница, вообще, есть. Советский Союз и Россия – это большая разница, но где лучше – довольно большой вопрос. Я кое-что предпочитаю в Советском Союзе. Была дисциплина. Все знали, что надо приходить вовремя, все делать. Дисциплина нужна в любом случае. Сейчас в России – как, наверно, и в Армении, много такого свободного движения. Но всегда нужно чувствовать оркестр, его пульс, его сердце. У вас в Армении теплота души, внимание такое, вежливость – она приносит пользу и музыке, потому что если человек сидит строго и невежливо, он не касается музыки, музыка идет формально, мимо него. Поэтому у вас здесь очень теплая обстановка внутри оркестра, все они доброжелательны и хотят исполнить все, что я требую. Я бы сказал – редкая страна, чтобы окунуться в такое теплое ощущение. Это очень важно. Это помогает сразу решить вопросы интерпретации.
- Мы до сих пор говорили о вашем опыте с оркестром. А когда добавляется еще и солист – что меняется? Вы превращаетесь в аккомпаниатора, вы опять-таки диктуете свое видение музыкального произведения, или это что-то между?
- Это зависит от того, какой солист. Был у меня [позавчера] солист Плетнев, который величина громадная, и я преклоняюсь перед ним как пианистом и музыкантом, который замечательно понимает музыку. Тогда я пытаюсь за ним идти – то есть, ему предлагаю свое, но в то же время я должен подчиняться его интерпретации. Иногда не соглашаюсь, но в таком случае я в паузе могу с ним поговорить.
- То есть, не при оркестре.
- Нет-нет, не при оркестре. А есть солисты, которые стоят очень низко еще, как ученики, тогда нужно их учить и помогать им приобрести ту интерпретацию, которую мне бы хотелось. Я им предлагаю: “Братцы, давайте здесь сделаем так-то, это намного лучше и интереснее”. Я пытаюсь объяснить; обязательно надо объяснить солисту: мало ли, может, он только что окончил консерваторию или училище. Надо любить солиста, прежде всего, и ему помогать. Это вопрос серьезный, психологический – доверие и недоверие. Чтобы исправлять недоверие, нужно с ними обязательно говорить и доказывать им, почему.
- А композиторам? Живым композиторам, разумеется.
- Ну, тут уж композитор сам по себе. Или ты берешь его, или нет. Например, когда мне было 9-10 лет, Шостакович был мне непонятен. Нужно было некоторое время жизнь прожить, чтобы понять – это же философия музыки, это же не просто: ему уже за 50, а я еще [молод] – конечно, я не могу понять всего. Но постепенно я дохожу до этого понимания, и с каждым годом мне становится ближе и ближе. Я повторяю те же сочинения и вижу новые вещи. Вот это – самое интересное – рождение новых идей...
- Но Вы работали со многими современными композиторами – как минимум, в советский период – с Хачатуряном, с Борисом Чайковским... Какие из этих сотрудничеств оказались для Вас наиболее памятными?
- Свиридов. Для меня он оказался, знаете, таким добрым гением. Он был мне очень близок, очень близка мне его душа. Он мне и помогал, и критиковал меня – и не только за свою музыку. Но сначала я познал его музыку, близкую мне.
- Насколько я знаю, по предложению Свиридова в Вашу честь назвали астероид, это правда?
- Ага, звезду (смеется). Так что, Свиридов для меня явился очень [важным человеком]. Конечно, есть вечные. Рахманинов, например – плачущий своей музыкой композитор, который желал вернуться в Россию, и его музыка плачет по России.
- Если я не ошибаюсь, он перестал писать песни после эмиграции.
- Да, песни...
- В далеком прошлом – например, в начале XIX века, большую часть оркестрового репертуара составляла современная музыка. Сейчас это уже, конечно, далеко не так, сейчас уже есть полностью сформированный репертуар. По-Вашему, это вина композиторов, или просто дань традиции?
- Вина композиторов. Я возвращаюсь к старым композиторам – например, к Пахмутовой, к ее песням. Я считаю, что из всего советского периода она написала песни, которые никогда не [забудутся]. Их ощущения, их чувства – они присущи всему миру. А есть композиторы, которые проходят – раз, и забываешь о них. Вот это немножко страшно и жалко, что такой период у нас. У нас были хорошие композиторы. Жанр песни – другой жанр, но это же тоже музыка, это великая музыка, на этой музыке воспитывалось наше поколение. “Пусть всегда будет солнце” [песня Аркадия Островского] – вот, пожалуйста.
- Я пел эту песню, когда меня принимали в музыкальную школу.
- Ну вот.
- А что делать современным композиторам, чтобы оставаться самими собой и не терять при этом контакта с публикой, музыкантами, дирижерами?
- Меньше денег брать. К сожалению, многое [делается] за деньги. Не надо – деньги к музыке не имеют отношения.
- То есть, творить по зову души?
- Да. Хочется встретить на сцене или на улице мальчика и создать ему песню, чтобы он запел. А он еще не соображает, но чувство у него есть.
- Вы уже отчасти ответили на вопрос, который я собираюсь Вам задать, но есть ли принципиальная разница между русской классикой и классикой западноевропейской?
-Есть. В интерпретации есть большая разница. У меня глубокое убеждение, что любой большой западный музыкант не может сыграть так тонко и глубоко русскую музыку. То есть, он играет профессионально – не придерешься, но чего-то, не знаю чего, не хватает.
- Когда-то в XVIII-ом веке Франсуа Куперен говорил, что за счет того, как устроен французский язык, иностранцы не понимают французскую музыку, а французы их музыку понимают.
- Ну вот вам и ответ.
- Это применимо и к русской музыке?
- Да. От чего – не знаю. Вот ты мне спой по-русски, что трогает твою душу. Это боль или трагедия внутри каждого сочинения. Так же и в классике. Вот, все хорошо, все правильно, четко, ясно – а чего-то не хватает. Загадочная русская душа.
- То есть, она есть?
- Есть, да.
- И мой последний вопрос – про Армянский филармонический оркестр, которым вы дирижировали два дня назад, и это был действительно замечательный концерт, на который я слышал очень много положительных отзывов. Как получилось работать с этим оркестром, над чем нужно работать оркестру, что позитивного было в этом сотрудничестве?
- Для меня самое главное – получить звук. Все они окончили консерваторию, у них все есть, пальцы двигаются, а вот [нужно] получить звук – теплый, равнозначный душе человека, с фразами – потому что композитор пишет molto dolce – и все, и не [объясняет], что это такое. “Очень нежно”. А что такое нежно? Один знает, что такое нежно, а другой скажет: “Ну, нежно – тихо, значит”.
- Меня всегда в этом плане интриговал, кстати, Чайковский, потому что, когда Чайковский пишет “Andante ma non troppo”, я не понимаю, это в какую сторону – быстрее, медленнее, или вообще к темпу не имеет отношения.
- Или вот, “semplice” – итальянское слово такое, Четвертая симфония, вторая часть, гобой играет, и написано “molto semplice” – то есть, “очень просто”. А что такое “просто”? “Просто” – это самое сложное. Самое сложное - это “очень просто”.
- Да, я помню, когда мне на уроках фортепиано говорили “играй проще”, я начинал напрягаться.
- Проще – это как раз не просто.
- Так над чем же нужно работать нашему оркестру?
- Получать звук, выражающий душу. Вот, есть diminuendo еще. Там много значений. Crescendo – это усиление, это проще, чем diminuendo. Diminuendo – это тоже crescendo, только эмоциональное внутри. Вот это трудно объяснить. Поэтому я и говорю оркестру: “Сделайте мне diminuendo, чтобы это было как crescendo” – напряжение остается. Другое дело – просто diminuendo, потеря звука – это другое совсем.
- Это как Дебюсси, который пишет molto crescendo от mezzo piano к mezzo forte – то есть, больше эмоциональный [подъем], чем динамика.
- Композиторы сами не могут расшифровывать [то, что они написали]. Вот знаете, так, немножно с душой играйте – а написано совсем другое.
- Есть еще что-то, что вы хотели бы добавить?
- Я хотел сказать, что мы очень счастливы, оркестр [БСО им. Чайковского] благодарен за приглашение в Ереван, потому что мы чувствуем какое-то родство душ. У нас много общего внутри нас самих, мы очень уважительно друг ко другу относимся, мы любим друг друга, мы любим ваши традиции, вы – наши традиции. Мы это видим. Сейчас жизнь такая страшная, не поймешь, что к чему, но у нас остается эта главная линия, на которой мы и держимся. Я в первый раз [работал с вашим] оркестром, и настолько они внимательны и доброжелательны – это очень важно. Мы благодарны вашему городу, вашему народу.
- Спасибо Вам большое.
Беседу провел Артур Аванесов